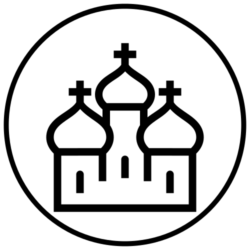Назад
Врерёд
 В конце XIX века в скиту подвизались 12 монахов и столько же послушников – по числу Апостолов. В это время здесь появились новые деревянные постройки, были заново сооружены из кирпича надвратная колокольня и жилые корпуса. Все выглядело аскетично и скромно. Таким скит и застал священник Федор Соловьев, в будущем известный старец Алексий Зосимовский. Овдовев, он решил стать монахом в монастыре со строгим уставом и для этого в июне 1897 года в сопровождении племянника отправился в скит Параклит.«Я мечтал о Параклите, – писал он. — Это пустынька в лесах за Троицей, недалеко от Черниговской; устав там строгий, подвижнический, женщин в обитель не пускают… День был жаркий, солнечный, мы ехали, все углубляясь в лес. И чем дальше мы ехали, тем глуше становилось, и такая благодать. Кругом все лес, всюду цветы, земляникой в воздухе пахнет; солнце светит сквозь чащу ветвей, птички поют, а кроме их голосов, кругом полная тишина, сердцу так легко, так хорошо от тишины. “Вот – говорю я племяннику, – где может быть настоящее житие монашеское”. Вскоре увидели деревянные домики и церковь, обнесенные деревянным забором. Входим в пустынь. Кругом ни души, будто никто здесь и не живет, обошли мы все строения – никого. Наконец, натолкнулись на монаха, шедшего в обитель с косой на плече, видимо, с работы. Мы к нему: “Где братия?” – спрашиваем, – “На работе, на лугу сено косят”. – “Можно церковь посмотреть?” – объясняем, кто мы такие. – “Можно, – говорит, – сейчас будет вечерня, я сам иду к вечерне, я ведь пономарь”, – а сам с трудом переступает от усталости. Отпер он церковь, очень она мне понравилась. “Вот, подумал я, – где молиться хорошо!” Стали мы сбоку, ждем начало службы. Видим: входит старый инок, такой смиренный и скромный, становится в стороне, в углу, вместе с братией, – это, оказалось, сам игумен; и старец там был, тоже замечательной жизни, подвижник, и тоже стал смиренно позади всех. И братья все, хотя, видимо, усталые, только с послушания пришли, а стоят с полным вниманием и благоговением. Служба идет так чинно, и чтение уставное – громкое, явственное, и пение стройное, неспешное – очень все это мне по душе было…»В 1920-х годах в скиту побывал юный князь Сергей Михайлович Голицын. «Троице-Сергиевская лавра была закрыта, но скиты Гефсиманский – вблизи Глинкова, и Параклит – подальше еще существовали, — вспоминал он. — В лесу или по дороге в Сергиев Посад можно было встретить монаха в скуфейке, в запыленных стоптанных сапогах, который шел, наклонив голову, шепча молитвы. На фоне елового леса, придорожных цветов он казался словно спустившимся с картин Нестерова или с этюдов Корина…»В 1919 году многие лаврские монахи перебрались в скит Параклит. На тот момент он был самостоятельным и официально числился трудовой артелью. В 1927 году здесь принял постриг будущий Патриарх Пимен (Извеков). И вскоре после этого скит закрыли. До середины 1960-х годов в верхнем храме располагался сельский клуб со сценой в алтаре, а в нижнем — овощехранилище. В 1992 году пустынь вновь была возвращена Церкви. За последние сто лет обстановка здесь совсем не изменилась: все тот же лес, огород, сенокосы и молитвенная тишина. Внутри храма сохранилась дореволюционная лепная отделка и старинный пол из каменных плит. В скиту подвизается всего несколько монахов, как в самом начале. Нынешний исполняющий обязанности настоятеля скита архимандрит Лука ежедневно служит Божественную Литургию и исповедует.
В конце XIX века в скиту подвизались 12 монахов и столько же послушников – по числу Апостолов. В это время здесь появились новые деревянные постройки, были заново сооружены из кирпича надвратная колокольня и жилые корпуса. Все выглядело аскетично и скромно. Таким скит и застал священник Федор Соловьев, в будущем известный старец Алексий Зосимовский. Овдовев, он решил стать монахом в монастыре со строгим уставом и для этого в июне 1897 года в сопровождении племянника отправился в скит Параклит.«Я мечтал о Параклите, – писал он. — Это пустынька в лесах за Троицей, недалеко от Черниговской; устав там строгий, подвижнический, женщин в обитель не пускают… День был жаркий, солнечный, мы ехали, все углубляясь в лес. И чем дальше мы ехали, тем глуше становилось, и такая благодать. Кругом все лес, всюду цветы, земляникой в воздухе пахнет; солнце светит сквозь чащу ветвей, птички поют, а кроме их голосов, кругом полная тишина, сердцу так легко, так хорошо от тишины. “Вот – говорю я племяннику, – где может быть настоящее житие монашеское”. Вскоре увидели деревянные домики и церковь, обнесенные деревянным забором. Входим в пустынь. Кругом ни души, будто никто здесь и не живет, обошли мы все строения – никого. Наконец, натолкнулись на монаха, шедшего в обитель с косой на плече, видимо, с работы. Мы к нему: “Где братия?” – спрашиваем, – “На работе, на лугу сено косят”. – “Можно церковь посмотреть?” – объясняем, кто мы такие. – “Можно, – говорит, – сейчас будет вечерня, я сам иду к вечерне, я ведь пономарь”, – а сам с трудом переступает от усталости. Отпер он церковь, очень она мне понравилась. “Вот, подумал я, – где молиться хорошо!” Стали мы сбоку, ждем начало службы. Видим: входит старый инок, такой смиренный и скромный, становится в стороне, в углу, вместе с братией, – это, оказалось, сам игумен; и старец там был, тоже замечательной жизни, подвижник, и тоже стал смиренно позади всех. И братья все, хотя, видимо, усталые, только с послушания пришли, а стоят с полным вниманием и благоговением. Служба идет так чинно, и чтение уставное – громкое, явственное, и пение стройное, неспешное – очень все это мне по душе было…»В 1920-х годах в скиту побывал юный князь Сергей Михайлович Голицын. «Троице-Сергиевская лавра была закрыта, но скиты Гефсиманский – вблизи Глинкова, и Параклит – подальше еще существовали, — вспоминал он. — В лесу или по дороге в Сергиев Посад можно было встретить монаха в скуфейке, в запыленных стоптанных сапогах, который шел, наклонив голову, шепча молитвы. На фоне елового леса, придорожных цветов он казался словно спустившимся с картин Нестерова или с этюдов Корина…»В 1919 году многие лаврские монахи перебрались в скит Параклит. На тот момент он был самостоятельным и официально числился трудовой артелью. В 1927 году здесь принял постриг будущий Патриарх Пимен (Извеков). И вскоре после этого скит закрыли. До середины 1960-х годов в верхнем храме располагался сельский клуб со сценой в алтаре, а в нижнем — овощехранилище. В 1992 году пустынь вновь была возвращена Церкви. За последние сто лет обстановка здесь совсем не изменилась: все тот же лес, огород, сенокосы и молитвенная тишина. Внутри храма сохранилась дореволюционная лепная отделка и старинный пол из каменных плит. В скиту подвизается всего несколько монахов, как в самом начале. Нынешний исполняющий обязанности настоятеля скита архимандрит Лука ежедневно служит Божественную Литургию и исповедует.